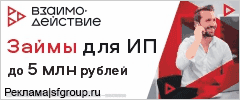Последняя охота оборотня
I
Метель свирепствует вот уже третьи сутки кряду. Гнутся, нещадно обхлестывая друг друга гибким ветвями, березы в перелесках, надрывно стонут в глухих таежных сузёмах хмурые, могучие ели. Некоторые из них, не выдержав бешеного напора ветра, с глухим надсадным вздохом «у-у-ух» валятся на заснеженную землю, подминая по себя и с хрустом ломая неокрепшие еще, хрупкие стволики молодого подроста.
Лес в одночасье сбросил с себя всю непомерную тяжесть хвоедера – нет худа без добра – потемнел и в разыгравшейся снеговерти выглядел хмурым, неприветливым.
Разгулявшаяся непогодь загодя и надолго загнала всякую лесную живность в свои норы – запало, затаилось зверье в схронах – для них теперь метель – не метель и голод не страшен. Еще с осени большинство из них заготовило впрок корм на неминуемую зимнюю непогодь.
II
… Фотей Гордеич все эти дни, что куролесила метель за окном, из дому не выходил ни на шаг и редко покидал глинобитную русскую печь – разве что по надобности «до ветру» – каждая косточка, каждый сустав еще на непогоду дали о себе знать подступающим нудным нытьем.
Переворачиваясь с боку на бок, а затем на спину, Гордеич натужно кряхтел, а, перевернувшись, затихал и начинал вслушиваться, как гнусавым, далеким-далеким отголоском голодной волчьей стаи завывает в печной трубе ветер, да простужено, надсадно поскрипывают стропила старой пятистенной избы под тяжестью уплотненного вьюгой снега.
Сухое тепло, исходящее от прогретой печи, немного успокаивало, приглушало ноющую боль в суставах, ломота в костях затухала, душа старика отогревалась, оттаивала, и он в эти редкие минуты забывался в коротком мятежном сне. Просыпался Фотей тяжело и каждый раз с непонятным чувством беспокойства в душе. Отчего исходило предчувствие беды, он, как ни старался, не мог осмыслить, и это еще сильнее угнетало его. В такие минуты Гордеич силился думать о чем-то приятном, уводя свою память в те далекие счастливые годы, когда был он силен и молод, когда тело его не знало, что такое немочь, а ноги не знали усталости.
Вспомнил Фотей, как однажды, с полвека тому назад, застигнутый в пути внезапно налетевшей метелью, возвращаясь из глухолесья, он чуть не погиб, попав в полосу ветровала.
Завязнув в снегу, Фотей не сумел увернуться от падающей сухары, упал сам, и лесина ударила его по ногам, глубоко вдавив в рыхлый, не улежавшийся снег.
Идти дальше он не мог, но и оставаться здесь значило погибнуть. И тогда он пополз; временами от накатывающей боли терял сознание, но, очнувшись, полз дальше. И добрался до хутора. И выжил…
Молодое тело взяло свое, и сломанные кости срослись быстро. А сейчас вот ноют эти, будь они трижды прокляты, переломы и на снег, и на дождь, и на всякую перемену погоды так, что и спасу нет.
Эх-ма-а! Годы-годики. Поначалу легкие и быстрые, как птицы на перелете, суетные и непоседливые, вечно спешащие куда-то, неутомимые, как пчелы на медосборе, в своей счастливой поре расцвета, а к концу жизненного пути длинные и маетные, как зимние долгие ночи в минуту бессонницы, и убродные, как путь скитальца в пору большого снегопада с непомерной ношею за плечами…
И вдруг, оборвав наплывшие воспоминания, Гордеич встрепенулся, перевернулся с боку на спину, согнул в коленях изношенные, ноющие ноги, ухватился за острые коленки иссохшими от времени руками и с трудом сел, прислонившись к кожуху печи костистой окатой спиной. В глазах его промелькнуло беспокойство и исчезло. Затем оно вспыхнуло вновь, но с еще большей силой, потому как вдруг он понял, осмыслил то, что не давало его душе покоя.
Метель… Согра… Лоси… Филька-оборотень… Вот она, логическая взаимосвязь, которая до сих пор блуждала в потемках души Гордеича, не давая ей покоя, и вдруг ясно высветилась и выплеснулась наружу, породив тем самым новое, еще большее беспокойство в душе старика – беспокойство за жизнь сохатых.
Гордеич враз ожил, засуетился, свесил с печи обутые в катаники ноги и проговорил скрипучим старческим, прокуренным голосом, заглядывая из-за кожуха печи в куть:
– Старуха! Слышь шшо ли, старая? Глянь-ко, о коей поре «кот»-от кажет?
– «Кот»-от? А чего тебе, Фотя, кот-от понадобился? Твое время с тобой, от тебя не убежит. Лежи знай, прокаливай свои косточки, покудова шти у загнеты доходят, – и, глянув из-за заборовки на простенок, где висели, мирно потикивая, стенные ходики с вращающимися в такт маятника глазами кота, добавила, крестясь на икону в переднем углу: – Однако, четверть на полдень «кот»-то кажет. А на дворе все такая же суметь и удержу ей не видно. О, Осподи, сохрани и помилуй на этом свете все живое, застигнутое в пути в эку непогодь.
– Ты вот чо, старая, найди задилье и наведайся к Филькиной бабе. Знать надобно – дома ан нет ли о сей момент злыдень обитает. В сенцах глянь в заворотный угол – стоят ли тамо лыжонки. Да не кажи виду, что у меня к оборотню антирес имеется.
– А тебе, Фотя, с коего боку в Фильке надобность-то враз объявилась? Аль опять чего удумал? Ой, мотри, сгубит тя в беде оборотень. Ой, сгубит. Его душе што комара, што человека на тот свет спровадить – все едино, – с беспокойством в голосе ответила старуха.
– Да будет те, будет, старая! Ну какая немилость в мои-то годы бедой обернуться может? Страшнее смерти надо мной беды нет и быть не может. Я уже чужой срок распечатал, и смерть для меня теперича выходит не беда, а припозднившаяся неизбежность. Ты уж давай, старая, доходь, разузнай, о чем те молвил. Я, может, перед смертью-то сумею еще на земле хоть одно праведное дело сладить, и мне то зачтется… Во, вишь-ко, и боль вроде как из костей уходит. Знать, и метель вскорости на убыль пойдет, - разглаживая поясницу, проговорил Гордеич и, видя, что Александра все еще мешкает с его поручением, уже с твердью в голосе добавил: – Да ты ступай, ступай, старая. Не задерживайся.
Александра, не по годам еще шустрая старушонка, жена Гордеича, привыкшая во всем подчиняться своему «правильному мужику», а таковым она его считала еще с первых дней за мужества, закуталась по самые глаза в большой шерстяной полушалок и, накинув на плечи старенький кожушок, шагнула за порог избы.
Через открытую дверь в жарко натопленную избу ворвался молочный клуб холодного воздуха, в котором и растворилась старушка под приглушенное сенями злобное завывание метели.
Как только дверь за старухой закрылась и без следа растаял наплыв холодного воздуха в избе, Фоте Гордеич спустился с печи, достал с полатей небольшой сундучок с охотничьим припасом, раскрыл его, поставив перед окном на широкую лавку, и начал не спеша, придирчиво оглядывая, отбирать заряженные патроны. Отсчитав нужное количество, Гордеич закрыл сундучок, бережно поставил его на свое место и снял с гвоздя висевшее на стене под полатями ружье-одностволок. Внимательно оглядев курок, старик переломил ружье, пощупал ногтем боек и слезящимся, прищуренным глазом заглянул в ствол, наведя его на проем окна. Осмотром он остался доволен и, положив ружье на лавку, принялся набивать отобранными патронами патронташ.
За этим занятием и застала его возвратившаяся Александра. Взглянув на старика, на его приготовления, она все враз поняла и, не раздеваясь, вмиг обессилев, опустилась на лавку.
И хотя знала она, что никакие просьбы и уговоры не смогут изменить принятого мужем решения, и потому никогда не перечила его воле, но на сей раз не сдержалась:
– Да ты, старый, никак в лес снарядился? Совсем ополоумел что ли? Да ты выдь на волю, глянь
что тама деется. Еле до Филькиной избы добралась. А он, ишь ты, в лес удумал шатиться. Ой, Фотя, Фотя, одумайся. Чай, не молодой ведь в эку-то непогодь да по тайге шляндать. Неспокойно чой-то на сей раз на душе за тебя. Ой, неспокойно. Неладное сердце чует.
– Будет, будет те, старая, раньше сроку-то на беду каркать, – со строгой ласковостью в голосе ответил Гордеич. – Метель, она о полуночи-то на убыль пойдет. К утру, глядишь, и вовсе убаюкается. Ты лучше валяй докладай, что выходила… Хотя и так чую, –,помолчав, добавил старик, – нутром чую, нет Фильки дома. В согре, должно быть, Оборотень о сей момент промышляет или на пути к ней находится. Д-а-а. Звирь на звиря охотой пошел. Вот это, старая, беда, и беда немалая. И беде той конец положить раз и навечно надобно… Ну, чо молчишь-то?
– Да чего тут судить-то, Фотя. Нет его, окаянного, будь он трижды неладен, дома. Нету. И лыженок нету. И закуток, где ружья хранятся, пуст. Сказывала Дуняшка, сестрица Филькина, были на метель-то к нему городские, на казенной машине наезжали. Шибко, бает, вино пили, да все про охоту рядилися. Ружьями, бает Дуняшка, хвалились и супостату сулились такое достать, коли услужит он им в сохачьей охоте. А ружье-то, видать, сказывает Дуняшка, тодельное, коль Филька вцепился в него, как клещ в кожу за пазухой – не оторвешь – и все не хотел отдавать его городским-то, и сохачины обещал достать им с избытком, коль ружье то его будет. А горожанам што? Только потешаются над ним, подначивают, да пуще того вином ублажают. А ружье ему обещали, коль сделает все, как надо. Сегодня с утра, бает Дуняша, собрал Филька котомку и шатился Бог куда ведает.
Старик слушал Александру внимательно, покачивал, как бы соглашаясь со всем услышанным, головой, думая о чем-то своем, одному ему понятном. И после того, как Александра, смахнув концом полушалка последнюю слезу с глаз, умолкла, проговорил:
– Ла-а-адно, старуха, ладно. Ты вот чё. Собери мне к утреннему часу котомку с харчем на два дня. С серым проблеском в согру подамся. Мне туды путь положить надобно. Может, и успею упредить беду. Да и пора назрела стреножить Оборотня и узду на него накинуть накрепко.
Александра, понимая, что всякие уговоры и доводы бесполезны и что уже ничего не может изменить принятого Гордеичем решения, крестясь и что-то шепча про себя, покорно ушла в куть собирать старику в дорогу провиант, а Фотей, поглощенный своими мыслями, опустился на широкую лавку и начал скручивать из крепчайшего самосада цигарку. Других табаков старик не признавал.
Глубоко затянувшись, он выпустил из себя целое облако едкого дыма, раздумчиво, как бы продолжая разговор с самим собой, произнес:
– Та-а-ак! Городские у Фильки бражничали. Городские, значица. Сохачей пропивали. Да-а-а, сохачей, не иначе. Честной-то городской ни в жисть к Оборотню не заезжал. Нет, не в жисть. Факт. К нему хапуги да анкоголики прислон держат. Да-а-а. Стало быть, Оборотень к согре сейчас путь держит. Не дурак он в охоте, знает, где сохачи о сию пору в отстое находятся, знает… и подался он туда через свое зимовье. Факт. С хмельной головой в эку метель только до зимовья ему и путь. На большее силов не хватит. В зимовье заночует, а с утра, однако, к согре шатится. Во-о, во-о-о. Бог даст, там и свидимся, – и Гордеич, загадочно улыбнувшись, поднялся с лавки и, шоркая по полу катаниками, направился к печи…
…С полуночи, как и предполагал Гордеич, метель выдохлась, стала заметно утихать, пошла на убыль. Порывы ветра потеряли свою изначальную силу. На небе, в разрывах низко мчащихся снеговых туч, то тут, то там запроблескивали холодной стальной синевой, мерцающие звезды. Метель усыпала тяжело, неохотно. Она, как смертельно раненый зверь, билась в агонии, и ее предсмертные судороги были все еще сильны, ощутимы, но чувствовалась в них уже безысходная обреченность.
К утру метель убаюкалась вовсе. И после ее свистяще-воющей кутерьмы наступившая вдруг тишина казалась мертвой, непривычно обманчивой.
Гордеич с первым проблесками близкого рассвета вышел из избы, встал на широкие охотничьи лыжи и задами вышел к темнеющей стене близкого леса. Уплотненный отбушевавшей метелью и сбитой кухтой снег держал хорошо, лыжи шли верхом, почти не проваливаясь. И тем не менее шел старик тупо, надсадно. Всякое резкое движение отдавало в поясницу нестерпимой стреляющей болью, и незнакомая доселе слабость растекалась по всему телу. В такие минуты Гордеич останавливался перевести дух и с тревогой прислушивался к учащенному, с перебоями, биению сердца. Смахивая с лица холодный липкий пот, он ощутил вдруг близость неизбежной смерти и испугался. Собственно, сама смерть не страшила Гордеича, нет. Он уже давно подготовил себя к этой неизбежности, и временами ему даже казалось, что смерть слишком благосклонна к нему. Обходит стороной, как будто и не замечает его вовсе. Но умереть сейчас, не дойдя до согры и не повидавшись с Оборотнем, было бы несправедливо. Поэтому чувство близкой кончины пугало старика и в то же время придавало ему силы, и он с трудом, но все-таки продолжал идти вперед, к своей цели.
Гордеич не представлял себе, что сделает Оборотню, что скажет ему при встрече, но он твердо знал, что со злом, творимым этим человеком в его родной тайге, наконец-то будет покончено. И это он чувствовал так же ясно, как ясно чувствовал у себя за плечами дыхание собственной смерти.
К согре старик добирался самой короткой и, в то же время, самой трудной дорогой. Путь его лежал через сплошной чапыжник и ветровалы старых вырубов, обходя которые ему пришлось бы загибать крюк верст в пять, не меньше. Так он выигрывал во времени и на этом строил свой расчет, чтобы в согре оказаться раньше Оборотня.
Войдя в еловый коренник, Гордеич остановился, отыскал взглядом валежину, сбил со ствола снег и, положив на него рукавицы, с трудом сгибая в коленях ноги, присел передохнуть. До согры отсюда было – рукой подать. Нащупав за пазухой кисет, Фотей Гордеич вытащил его и начал скручивать цигарку. Глубоко затянувшись, он вдруг болезненно сморщил и без того изрезанное глубокими морщинами лицо и зашелся в надсадном, грудном кашле. Душа старика впервые за всю его долгую прожитую жизнь не приняла дыма самосада, в котором всегда ощущала жгучую потребность…
Эхо выстрела, легко раскатившегося по сбросившему с себя кухту лесу, своей скрытой силой бросило старика на ноги. И он, сорвав с головы шапку-ушанку, начал недоуменно озираться. Звук выстрела был настолько неожиданным, что в первую минуту Гордеич растерялся, а когда понял, откуда донесся этот звук и что он означал, то, окончательно обессилев, снова опустился на лесину:
– Все. Опоздал. Не сумел уберечь животину от погибели. Опередил меня анчихрист. Факт. Опередил, – опустошенно прошептал Фотей, смахивая тыльной стороной ладони проступивший холодный и липкий пот со лба. – Ну, ужо, ну погодь ты у меня. На сей раз ответишь за все земные грехи, сотворенные тобой на этом свете. Сполна ответишь, - зло закончил старик и, погрозив кулаком в сторону согры, встал на лыжи и заспешил в направлении прогремевшего выстрела…
…На душе у Фильки-оборотня враз просветлело. Мучившее душу и все его тощее тело похмелье отступило, ушло на второй план. На скуластом, заостренном, как у хорька, лице, заросшем редкой рыжей щетиной, появилось подобие улыбки. Он не материл уже мысленно на чем свет стоит своих городских дружков-приятелей, ради которых он выполз вчера из дома в метельную, неуютную тайгу и, как раненый волк до логова, еле-еле добрался до своего полузавалившегося зимовья, царства хаоса и беспорядка, где и провел долгую маятную ночь. Допив бутылку водки, оставленную горожанами и предусмотрительно прихваченную с собой, он то проваливался в кошмарный сон, то, страдая от головной боли, сидел на корточках у печки-теплушки в ожидании глотка горячего, снегового чая, круто настоянного на березовой чаге.
Впрочем, о своих дружках-приятелях он думал меньше всего – сдались они ему, как северяк на полдень, - а вот «вкладыш» под мощный боевой патрон, который обещан ими за удачу, не давал покоя, и ради него, и только него, Филька решился с хмельной головой в такую погоду выйти в тайгу на воровской промысел.
Филька-оборотень был бывалым и опытным таежником и потому знал, что добыть сохатых сразу же после метели, когда они дают след на коротке, ему будет не трудно, а место отстоя он знал наверняка. Согра не раз выручала Фильку, когда ему срочно требовалось добыть лосины. Но что столь скоро наткнется на свежак, даже он, Филька, не мог себе этого представить. Фильке казалось, что сама «госпожа удача» шла ему навстречу. И это веселило его черствую, хмельную душу.
Осторожно продвигаясь по свежему лосиному следу, Филька вдруг остановился и начал чутко, настороженно вслушиваться в застывшую лесную тишину. Но ничего подозрительного не обнаружив, он снял с руки рукавицу и, нагнувшись к следу, пощупал его, потом взял в руку рыжеватый от мочи зверя комочек снега и раздавил его в пальцах. Комок развалился легко, без усилия. Значит, лось находится где-то рядом. Оборотень чувствовал это всем своим нутром, и оно его не обманывало. Осторожно сбросив с плеч рюкзак, Филька достал из него меховые чехлы, сшитые из собачьих выделанных шкур, и натянул их на свои короткие широкие лыжи. Затянув на задниках шнуровки, Филька напялил на себя старый, в заплатах маскхалат и начал осторожно скруживать жировочный след, внимательно оглядываясь по сторонам. Сейчас лыжи шли хотя и тупо, зато абсолютно бесшумно…
Сохатый жировал на опушке коренника в зарослях пихтача и рябинника. Обнаружил его Оборотень вскоре после того, как начал обходить место жировки, но в чаще подроста никак не мог перевидеть самого зверя. По хрусту ломаемых побегов, по вздрагиванию верхушек подлеска он определил, что лось движется в его сторону, и потому не стал больше скрадывать зверя, чтобы не вспугнуть его нечаянным, неосторожным движением. Укрывшись за густолапой, в рост человека, елочкой, Филька стал ждать приближения зверя. Оборотень знал, что сейчас успех охоты зависит от его, Филькиной, выдержки, поэтому он был спокоен и ни на секунду не сомневался в удаче.
Но на этот раз выдержка и самообладание подвели Фильку-оборотня.
Лось вышел из подсада в неширокий прогал метрах в тридцати от Фильки и шел прямо на него, не чуя нависшей над собой смертельной опасности.
Сердце Оборотня радостно забилось, и он, скрытый густыми лапаками молодого деревца, медленно, не допуская резких движений, поднял ружье. Два смертоносных зрачка стволов буравили мощную грудь сохатого, но он, не чувствуя этого, потихоньку приближался к своей погибели.
А Филька с ликующим сердцем, посмеиваясь в душе над глупым животным, которое само шло в его руки, выжидал момент, когда сохатый повернется к нему боком, подставив под верный выстрел лопатку. Но лось, как завороженный, шел прямо на него. И тогда внутри у Фильки что-то дрогнуло, вселив в его душу смятение. Когда между зверем и укрытием, где находился Оборотень, осталось метров десять, не больше, выдержка изменила Фильке, и он вместо того, чтобы обнаружить себя и дать лосю броситься в сторону, подставляя бочину, выстрелил сохатому прямо в грудь.
Лось на какое-то мгновение остановился, словно наткнулся на невидимую преграду, затем, ощутив в своей груди жгучую, раскаленную смерть свинца, рванулся вперед, как бы желая освободиться от нее, но после нескольких мощных бросков силы покинули его могучее тело, и он всей своей тяжестью боком завалился на елочку, за которой стоял Оборотень, подминая под себя с хрустом переломившийся стволик, а заодно и обезумевшего от страха, не успевшего отскочить в сторону Фильку.
Филька отчетливо различил, а затем остро ощутил, как треснули сломанные кости на подвернувшейся ноге, придавленной тяжестью лосиной туши.
Смертельно раненый зверь бился в предсмертных судорогах, сокрушая мощными ударами сухих, жилистых ног подрост и далеко разбрасывая вокруг себя комья уплотненного снега. Один из таких ударов пришелся Оборотню по позвоночнику. Второй удар копытом задней ноги пришелся Фильке вскользь по шее. Но этого удара он уже не почувствовал…
…К месту разыгравшейся в лесу трагедии Гордеич вышел часом позже. Подходя к согре, он часто останавливался, вслушиваясь в застывшую и непривычную после метели тишину леса и по-звериному раздувая тонкие, подвижные ноздри, втягивал в себя упругий, настоянный на хвое лесной воздух. Он старался уловить в нем запахи дыма, и, не чувствуя его, удивленно, с недоумением пожимал плечами и, осторожно обходя сухие валежины, продвигался дальше.
У кромки коренника на подходе к согре Фотей наткнулся на свежий жировочный наброд зверя, к которому вплотную подходила петляющая Филькина лыжница. Гордеич замедлил шаг, снял с плеча ружье и, держа его в правой руке, осторожно двинулся по готовой, набитой лыжне. Лежащего на снегу у кромки неширокого прогала лося Фотей обнаружил сразу. Не выходя из чащи, он внимательно огляделся по сторонам и, не обнаружив присутствия Оборотня, вышел из укрытия. Гордеич не сомневался в том, что Филька-оборотень в данный момент «добирает» подранка, а может быть, кто его знает, уже и обрабатывает его, растаскивая разрубленную на части тушу по снегу.
Не дойдя до убитого зверя несколько шагов, Гордеич вдруг остановился и застыл на месте. В глазах его вспыхнуло удивление, которое переросло в тревогу, и он, сорвав с головы шапку и смахнув с лица враз пробившийся пот, торопливо трижды перекрестился.
– Бог щадит, бог милует, бог и карает грешников, – беззвучно прошептали губы потрясенного увиденным старика.
В пространстве между вытянутых передних и задних ног лося Гордеич разглядел неподвижно застывшее тело Фильки. Ноги его по самые колени находились под тушей убитого зверя, из-за хребтины которого торчали сломанные, обтянутые шкурой носки охотничьих лыж. Туловище Фильки, неестественно согнутое в пояснице, было наполовину забросано комьями снега.
Гордеич, внимательно всматриваясь в следы на снегу, обошел кругом место разыгравшейся в согре драмы, посмотрел прищуренными слезящимися глазами вдоль по прогалу, откуда тянулись следы зверя, и покачал головой. Он во всех подробностях представил себе последнюю Филькину охоту, и никак не мог уяснить – как это он, Филька, опытный зверовик-таежник, смог допустить ставшую роковой для него, столь глупую ошибку.
Глядя на неподвижного Фильку, на страшную рану на его тощей шее и неестественное положение его тела, Гордеич понял, что Филька мертв, и у него в груди вдруг зашевелилось чувство жалости к тому, которого он и за человека-то считал вовсе. Филька всегда был злейшим врагом тайги, а следовательно, и его, Фотея. Зло, которое совсем недавно клокотало в его груди, куда-то ушло, отступило в глубины души, затаилось…
Вдруг Гордеичу показалось, что веки Оборотня чуть шевельнулись, дрогнули, а из груди вырвался еле заметный вздох. Еще не веря в это, Фотей склонился к Фильке, торопливо расстегнул фуфайку, приложил ухо к его впалой, тощей груди и с трудом, но все-таки уловил в ней признаки угасающей жизни.
Гордеич быстро, как мог, вскочил на ноги, сбросил с плеч мешок и, достав из него топор, торопливо свалил еловую сухару, разбросал лыжей снег и развел большой, жаркий огонь. Около костра он настлал толстым слоем упругие пихтовые лапы, набил котелок с закопченными боками снегом и, пристроив его с боку у огня, поспешил к Фильке.
Осторожно подрыв снег под тушей лося, Гордеич высвободил Филькины ноги и с трудом перетащил бесчувственное тело к костру, удобно уложил его на обогретую жаром костра пихтовую постель.
Налив в кружку из котелка круто заваренного чая, Гордеич бросил в него комок чистого снега, помешал чай сухим еловым сучком и по капле начал вливать его в рот Фильке.
То ли от тепла костра, то ли от крепкого чая, но Филька вдруг сделал глубокий вздох, глаза его медленно раскрылись и он затуманенным взором уперся в склоненное над ним морщинистое, как пареное яблоко, лицо Гордеича, узнал его и заговорил еле слышным, злым, шипящим шепотом:
– А-а… Ты это, хрыч бессмертный. Ве-е-зучий ты. На тебе и смерть спотыкается. Боится тебя смерть-то. Думал – сгинешь тогда в тайге без концов, как Демка-лесовик, пули на тебя пожалел, а выходит – зря… Что, по мою душу пришел? Теперь она в твоей власти. Моя власть кончилась, иссякла… Бери ее… Бери… Радуйся…
Фотей Гордеич долгим, внимательным взглядом, как бы силясь понять, разгадать суть этого человека, смотрел в скуластое, щетинистое, обескровленное лицо Оборотня, с которого из-под нависших лохматых бровей уставились на него безжизненные, подернутые молочной пеленой, но полные бессильной злобы глаза, газа обреченного зверя-хищника, и голосом, в котором было больше жалости и презрения, чем зла, которое тот справедливо заслуживал всей своей прожитой жизнью, задумчиво, больше для себя, чем для Оборотня, проговорил:
– Радоваться, говоришь… А чему радоваться-то? Чему? Ведь нет у тебя, Филька, души-то. Нет, да и не было у тебя ее вовсе. Да и не к чему мне душа твоя, если бы она у тебя и имелась. Я и свою скоро Господу Богу отдам – теперь можно… Прожил ты, Филька, свою жизнь, что в поле обсевок, что репей на собачьем хвосту, и сгинешь, как лист в осеннюю пору на свее студеном… И хошь родился ты человеком и от груди бабы-матери на ноги встал, да жизнь-то свою прожил по-звериному. По их звериному закону и смерть свою примешь. Я так разумею…
Старик отвел взгляд от лица Оборотня и, устремив его в таежную даль, с болью в голосе добавил:
– Да-а. Жисть. Человек-звирь на звиря лесного блудливой охотой пошел. Лесной звирь человеку-звирю отомстил по-справедливому… – и, словно испугавшись своих не высказанных, затаенных дум, он плеснул из котелка в кружку остаток чаю и поднес ее к сухим, уже посиневшим губам Фильки-оборотня.
– Нат-ко, сглони на послед чаю лесного. Отогрей на отход обозлённую свою душу, глядишь, и затеплится в дрёмных дебрях её запоздалое, но Богу угодное раскаяние за безвинную погибель Дёмки-лесовика и за весь творимый тобою доселе блуд и разбой таёжный. Нат-ко, испей на послед.
Филька с трудом сделал пару торопливых глотков и, отведя в сторону дрожащую руку Гордеича, через силу выдавливая из себя слова, одними губами еле слышно прошептал:
– П-по-здно, п-п-здно, старик, ка-а-яться, времени на то не-не-не отпущ…
Закончить Филька не сумел, тело его вдруг судорожно дернулось, лицо перекосилось, глаза широко раскрылись, и враз остекленели с застывшим в них ужасом. Смерть оборвала Оборотня на полуслове. Фотей Гордеич склонился над отошедшим в иной мир Филькой, провел по лицу ладонью, закрыл глаза и, трижды перекрестив его, сам перекрестился. Какой ни есть, а всё-таки человек помер.