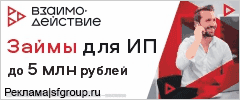гордеич
Уже под вечер, когда солнце клонилось к закату, цепляясь за остроконечные макушки елей и раскидистые, вечнозеленые шапки сосновых крон, которые стройным рядом опоясывали старую вырубку, где мы с Фотеем Гордеичем собирали вобравшую в себя августовские зори бруснику, с полными ягод корзинами в руках вышли к верховью реки Большая Лоха. Здесь был устроен шалаш, не раз укрывавший нас с Фотеем в осенние ненастные ночи и даривший нам уют походного очага.
Место, где был построен шалаш, выбрано «не с бухты-барахты», а для радости «души и глазу», как пояснил мне Фотей, построивший его. Глядя в предзакатный час от шалаша вправо, на говорливую Лоху, казалось, что солнце, прежде чем скрыться за лесом, решило ополоснуться в зеркальной глади вод неширокого, от берегов заросшего травой плеса, да так там и застыло, нежа в ключевой прохладе свое знойное тело. А если бросишь взгляд влево, то увидишь, как то же солнце, рассыпавшись на миллионы солнечных бликов, играет в хрустальных струях и брызгах незамерзающего даже в лютые зимние морозы, вечно поющего что-то свое переката, образуя над ним расцвеченную радугу, концы которой, казалось, вросли в разные берега реки. В этот час перекат казался мне норовистым, горячим конем, а радуга – разукрашенной выездной дугой, которую ставили наши деды в упряжь коренного лихой русской тройки.
Налюбовавшись открывшимся видом, с удочкой и котелком в руках спустился я к шумному перекату – в этот час хариус хорошо брал на любую приманку – а Фотей занялся устройством ночлега. Особо крупных хариусов в верхотине Лохи не водилось, но мелочь, величиной со среднего ельца, клевала бойко. За какие-то полчаса я выудил требуемое для ухи количество рыбешек, тут же выпотрошил их и, зачерпнув в котелок воды, направился к шалашу, возле которого уже весело горел, потрескивая и стреляя в разные стороны искрами, небольшой костерок.
Фотей Гордеич, о чем-то задумавшись, сидел на кряже, положенном перед входом в шалаш, служившим сиденьем, но главная его роль была в том, чтобы огонь от костра не проник во внутрь шалаша и не натворил бед.
Глядя, как я прилаживаю котелок над огнем, мой спутник вдруг улыбнулся и, обращаясь ко мне, заговорил:
– Вот ты, Митяй, хочь в Бога не веруешь, но над нами, признающими его, попусту не потешаешься, и тебе сиё на том свете зачтется, когда Господь Бог будет решать – в ад, аль в рай тебя направить. Так вот, объясни мне, ученая твоя головушка, отчего на земле-кормилице, матушке нашей, с людьми, да и в самой природе всяческие непонятные истории приключаются? Знаешь аль нет?
– А это, Фотей Гордеич, больше от людской фантазии и его домысла происходит. В природе все объяснимо.
– Эвон как! Объяснимо, сказываешь. Так вот ты и объясни мне, как это могёт уха без огня на пожоге свариться? Ну-ко, бай, может аль нет?
– Без огня на пожоге уху не сваришь. Это, Гордеич, и дураку не в диво, и дураку это понятно, – с улыбкой ответил я Фотею, чувствуя, что дед заводится.
– Ишь ты, значит, тебе понятно, Митяй. Стало быть, ты и есть самый, что ни на есть, взаправдашний дурак. А вот мне непонятно. А посему выходит, я умнее тебя, хочь ты и грамоте учён. И окромя, как вмешательством всевышнего, я такого факту в толк не возьму, да и не желаю взять, – с обидой в голосе обрезал Гордеич.
– Да ты не серчай, Фотей Гордеич. Поясни лучше, в чем суть-то дела. А то я и в самом деле ни черта не пойму, о чем ты судачишь, что в виду имеешь, - скрывая улыбку, проговорил я, понимая что Фотей находится сейчас в «ударе», и приготовился слушать его очередные «жизненные истории».
– А ты, Митяй, чёрта-то на ночь глядючи не тревожил бы, – крестясь, урезонил меня Фотей, – а уха у меня одинова, однако, как есть, вот на этом самом пожоге без огня, а изготовилась. И вот ить, как это было. Наудил я, значица, так же, как и ты о сей поре, рыбицы на перекате, котелок на поварок навесил, хотел было бересто подпалить на пожоге. Хвать за пазухой, а серников-то за пазухой в потайнике и нету. Подит-ко, ковда на перекате рыбешку потрошил, серники-то и вытерял. Что тут поделаешь! Полез в шалаш. Я всегда запасные, завернутые в березовое лыко, подальше от постороннего глазу, под кореньями ёвки таю. Шарю, шарю, а серников и тама нету. Осподи!, вопрошаю, что делать-то? И только я, значица, господа помянул, как чевой-то вдруг грохнет, да как верескнет – не приведи Осподи. И какая-то невидимая сила меня в дальний уголв шалаша отшатила. Сколько пролежал тама в беспамятстве – не знаю. А только пооклемался чуть, гляжу и зенкам своим не верю – от ухи-то в посудине пар исходит, а глаза у рыбицы, словно бельма, – упрела, значица, рыбица-то. Под посудиной на поварке ни дровинки, ни травинки – они уголья стылые – а похлебка рыбная готова. Вот те крест, истину баю, – осеняя себя крестом, закончил Гордеич. И, помолчав, добавил требовательно:
– Вот ты теперича и растолкуй мне, кто, ежели не силы небесные уху мне без огня сварганили, а чтобы я их святое таинство не узрел, так они меня в беспамятный сон окунули.
– А скажи, Гордеич, эти самые «силы небесные», чтобы снять с тебя сонное напущение, случайно водицей с небес на твое чело не кропили? – еле сдерживая смех, вполне серьезно спросил я рассказчика.
– Окропили, баешь, водицей? – задумываясь, проговорил Фотей. – А ить и взаправды, ковды я в чувствие-то пришел, так по траве вокруг шалаша, вроде как, мокреть стояла.
– Ну вот, Гордеич! Сейчас мне все окончательно ясно, – от души рассмеялся я. – Это тебе и в самом деле «силы небесные» ниспослали «гром среди ясного неба» и вышибли твою память из головы напрочь.
Еще не осознав причины моего смеха, Гордеич смотрел на меня обиженным, слезящимся, старческим взглядом некогда голубых, как июльское небо, но с годами поблекших, словно осенние васильки, глаз.
– Да вот они, следы той «силы небесной», – поспешил я разъяснить Гордеичу, показывая на пораженную молнией ель, под которой был устроен шалаш.
Приоткрыв беззубый рот и задрав вверх седую голову, Гордеич уставился на расщепленную вершину ели. От расщепа, змеясь вниз по стволу, сползал широкий, с обожженными краями, почти полностью затянутый серкой, но все еще ясно различимый след от удара молнии.
– Кхе-кхе, – неопределенно прокашлял Гордеич, – все от Господа Бога, хранителя нашего, коль жив по сей поре, однако, – осмыслив, наконец, что к чему, проговорил он и, повернув к костру морщинистое, словно пареное яблоко, лицо, тихо добавил: – Вот ить, какая конхузия-то с ухой получилась. Выходит, молонья костер-то и запалила.
До старика дошло, что в тот раз, когда «уха без огня сварилась», стоял он одной ногой в могиле, и что просто чудо спасло его от верной погибели. Но и это «чудо» истолковал он весьма просто, на свой Фотеев лад. Признать вот так, сразу, свою «конхузию» Гордеичу не позволяла его душа.
– Вразумей, Митяй, ведь это силы небесные меня в дальний угол шалаша от верной погибели бросили. Нужон, знать, еще я Господу Богу на земле-матушке, коль в последний момент он ко мне руку помощи простер.
– Конечно, нужен, Гордеич! На земле не только Богу, но и людям от тебя куда больше пользы, чем на небесах. Так что живи и здравствуй до сотни лет.
– Ладно, допущаю, что в тот раз меня молонья шарахнула и из памятства вывела. Видать, и Всевышний иногда допущает промашки, коли чуть меня раньше сроку к себе не призвал, ладно хочь свою промашку исправил. А то, што молонью как кару небесную применяет, так это неоспоримый факт. Вот чуй, чево тебе поведаю.
Уместившись поудобнее на кряже, Фотей заговорил дребезжащим прокуренным голосом:
– Раньше у нас в деревне (на Лукшин-то хутор мы опосля перебрались) вот какой случай сотворился. Жил, значица, со мной в соседстве Тимоха, бригадир колхозный. Мужик из себя ладный, обличьем видный, а поентому и до чужих баб шибко охотный. Не глядя, что и свою жену-пышку имел. Видать, при сотворении наделил его Всевышний мужицкой силой с избытком, не в радость другому моему соседу – Ереме, которого при наделении энтих самых мощей Всевышний просчитался, обделил мужика. А в женки тому Еремке бабу – кровь со сливками – выделил. Во, вишь, какие ошибки и в господней канцелярии случай имеют, – повернувшись ко мне и явно оправдывая свою промашку, которая не давала ему покоя, пояснил Фотей. – Видать, и там нерасторопные архангелы, али и нечестивцы какие, што и на нашей грешной земле имеются. А где истина – то одному Богу ведомо, – зевая, проговорил старик и о чем-то глубоко задумался.
– Ну и что тот Тимоха с Еремой? – решил я прервать раздумье Гордеича, чтобы он не увел разговор в другую сторону.
– Што-што… А то, што повадился тот Тимоха к Ереминой бабе будто по делу наведываться. Даст Ереме наряд куды подальше за сеном съиздить, а сам – шасть к его бабе, ну и зачнут они там свой блуд излажать. Знамо дело – шило в мешке не утаишь. Ну и пошли наши бабы про их утеху по деревне расписывать. Што помоложе, те смешком ошпарят, а те, што с житейскою ношей на горбу, так эти к суду Божьему призывают. И што ты думаешь? Ведь дошли до Всевышнего, значица, вопрошания-то людские. Покарал он Тимоху, а заодно и блудницу Еремину. Во как, – проговорил Фотей и умолк, принимаясь скручивать из крепчайшего самосада цигарку.
– Ну, и каким же манером он наказал грешников? – спросил я Гордеича.
– Каким? – слюнявя в палец толщиной закрутку, ответил рассказчик. – А самым, што ни на есть, простым. Через ту же молонью. Однажды, ковды Тимоха в очередной раз наведался к соседской бабе, вдруг ни с того ни с сего средь неба ясного из небольшой тучи гроза приключилась. Молнея как вдарит, и прямком в Еремин дом угодила. По проводам пошла, а самого дому не запалила. Из проводов в розетку перешла, а из розетки как лупанет Тимохе в скулу. У того аж нижняя чеюсть обвисла. Разделалась молнея с Тимохой, а потом Еремину бабу по голове своей огненной рукой погладила. У нее с той поры волосья-то о середке головы и не растут вовсе. По причине той она на плешивого мужика стала шибко смахивать. А Тимохе скулу вернувшийся по случаю грозы раньше сроку Ерема вправил. Да, видать, перехватил лишку, потому как с той поры у Тимохи зубьев во рту шибко поубавилось – пообезубел наполовину рот-от. А скула после Ереминой правки вскорости срослась, правда, с заметным перекосом в обратную сторону, – закончил свой рассказ Гордеич, гася обжигающий губы окурок цигарки о голенище резинового сапога.
Сдерживая подступающий смех, я со всей серьезностью спросил Гордеича:
– А скажи, Фотей Гордеич, может, и тебя силы небесные молнией за подобный грешок пугнули?
– Ты вот чо, Митяй, – с обидой в голосе ответил Гордеич, – ты зубья-то скаль, да с оглядом. Я себя в этом вопросе всю жизнь в строгости держу, а на осьмом-то десятке подобные грехи на ум не идут и вовсе. А молонья в меня стрельнула по ошибке, потому, как сказывал тебе, и на небесах промашки допущаются. Видать, и тама в семье не без косоглазово, – сердито закончил рассказчик.
Пока Фотей Гордеич рассказывал эти истории, уха в котелке сварилась, и мы с аппетитом принялись за нее. Когда наши ложки зачиркали по дну объемистой посудины, Гордеич, сытно икнув, отложил в сторону, предварительно дочиста облизав ее, свою ложку и обмахнув шершавой ладонью рот, довольный изрек:
– А теперича не грех и чайком утешиться. Уж ты, Митяша, уважь старика, изладь чайку-то по-своему, со смородишным духом. Зверобоя, покудова ты на перекате был, я припас, а чага от того разу еще осталась. Имеется в тебе мастерство на чай. Изладь напитку на сон грядущий, а я тебе еще одну жизненную историю поведаю, покудова ты над водицей колдуешь. Только за ее правоту ручательства не даю, потому, как приключилась она не со мной, а с лесовиком Демьяном из соседской деревни, да и поведал ее не сам он, поскольку сам-от о том же годе со свету сгинул, лесуя в дальних суземах - то ли звирь его подкараулил, то ли чё другое приключилось – теперича только один Господь Бог и ведает… Да ты ступай, ступай за водицей-то. Как чайком побалуемся вдосталь, так и поведаю те ту историю, - вдруг обратился ко мне Гордеич, заметив, что я отставил в сторону котелок и, устраиваясь удобнее у костра, приготовился слушать его очередную «жизненную историю», которые, когда дед разговорится, так и выплывали из него одна за другой, что льдины на ледоходе.
Взяв в руки котелок, я спустился к травянистому плесу реки, по берегам которой росли кусты черной смородины. Здесь были устроены заботливыми руками Гордеича мостки из жердей, с которых мы брали воду.
В глади застывших вод плеса, как в зеркале, отражались кусты черемушника и ивняка, а за ними, словно стражи ночного покоя, стояли задумчивые ели и веселые сосны. Расплывчатые, смазанные вечерним сумраком закатные краски угасающего дня, преломленные в хрустальных глубинах вод плеса, а затем отраженные на его поверхности, сохраняли и усиливали свою изначальную свежесть…
Услышав голос окликающего меня Гордеича, я нагнулся к реке и зачерпнул котелком воды. По потревоженной глади речного плеса пошли волнистые круги, и картина исчезла. Наломав черенков черной смородины, я возвратился к костру и пристроил котелок с водой над огнем. Глядя на трепещущие языки пламени, я глубоко задумался, вспоминая те далекие годы, когда мы впервые встретились с Фотеем Гордеичем…
…В один из октябрьских ненастных вечеров к моему лесному ночлегу подошел высокий, сухой и очень подвижный старик, с самодельной кожаной охотничьей котомкой на плече и старинным курковым одностволком за спиной. Соблюдая обычаи таежного гостеприимства, я пригласил его испить со мной чайку, перекусить чем Бог послал и обогреться у костра. Здесь мы и познакомились с Фотеем Гордеичем. Длинная осенняя ночь пролетела незаметно. Новый знакомый оказался большим знатоком нашей северной природы и, самой природой наделенный острой наблюдательностью, он прекрасно разбирался в повадках всей лесной живности, был неутомимым охотником и веселым рассказчиком всяких, как он выражался, «жизненных историй».
Утром, когда мы расставались, уходя каждый своей тропою, он, пожимая мозолистой, узловатой рукой мою ладонь, пронизывая меня цепким взглядом голубых, как июльское безоблачное небо, глаз, сказал:
– А чаек ты варишь знатно, по таёжному, с толком. Спасибо за чай. И за обогрев ночной такмо же спасибо. А живу я на Лукшином хуторе. Подит-тко слыхал?
Я утвердительно кивнул головой:
– Слыхал.
– Стало быть, путь туды ведаешь. Забредешь в те края – не обходи. Осерчаю. Люб ты мне. Уж шибко ладное суждение о зверье имеешь. Ноне это в редкость. А тропу свою через верхотину Богудальницы положи – по снежью зверье разное тама охоче держится, – посоветовал мне новый знакомый и твердым шагом, не оглядываясь, направился по еле приметной тропинке. Я смотрел ему вслед до тех пор, пока его не по-стариковски стройная, сухая фигура не скрылась в чаще ельника.
С той поры немало избродили мы с Фотеем Гордеичем дремучих суземов, шагая по труднопроходимым таежным тропам, хлебая из одного котелка немудреную охотничью похлебку, запивая ее лесным, настоянным на корешках и лесных травах чаем…
– Эй! Да ты неушто задремал, Митяй? – положил конец моим воспоминаниям Гордеич. – Давай, колдуй над водицей, изопьем чайку, да и на боковую. Вода в посудине уже вовсю клокочет, – произнес он и, немного помолчав, спросил:
– А скажи, Митяй, ежели не секрет, о чем твоя задумчивость была? Шибко отрешенный от жизни ты сидел.
– Да какой уж тут секрет. Так, о разном, и о тебе, в частности, мои воспоминания были. Всплыла в памяти наша первая встреча в тайге…
– И то. Немало водицы утекло в Лохе с той неблизкой поры, а я вот все еще топчу ногами нашу грешную землю. Давно пора пришла к Господу собираться, а охоты особой в душе к этому не имею, – помешивая обожженным посошком уголья в костре, задумчиво проговорил Гордеич и, помолчав, добавил:
– Уж ты, Митяша, в последний-то путь меня обрядить и проводить приди и все наказы мои исполнь…
– Ладно, ладно.
– Помолчи, – махнул в мою сторону рукой Гордеич, – верю, што придешь, не забудешь старика. Один ты у меня из близких опосля старухи остался…
Я разлил по пол-литровым стекляшкам настоявшийся чай и одну протянул Гордеичу. Он принял склянку обеими руками и, держа ее в неразгибающихся ладонях, блаженно причмокивая после каждого глотка, довольно улыбался. Пил Фотей Гордеич чай без сладости – «чтобы не заглушить исходящий от него дух тайги, земли и лугов» – так пояснял он свое пристрастие.
Напившись вдоволь ароматного чая, мы стали готовиться к ночлегу. Фотей принес в шалаш охапку свежего, духмяного сена, а я подбросил в костер ольхового сушняка, которого по берегам реки было в избытке, и придавил их сверху свежими березовыми кряжами. Тепло, исходящее от костра, обогревало шалаш, и мы с Гордеичем лежали, вслушиваясь в тишину спускавшейся на землю ночи, нарушаемую лишь потрескиванием костра, вечной песней переката, да редкими всплесками рыбы в ночном плесе…
– А что, Гордеич, за история с Демьяном-лесовиком приключилась? – нарушил я молчание, зная, что старик все равно не заснет до предрассветного часа.
– Да какая уж там история. Так, случай одиножды с ним приключился. И опять же с силами небесными связанный. То тебе и поведать хотел, чтобы в толк взял, что Господь не только карает грешников, но и помогает его почитающим. Да-а…
– Ну и каким же образом он помогает? – спросил я замолчавшего Фотея.
– Каким, спрашиваешь? А вот энтим. Слушай уж, шо с тем Демьяном было. А случилось то о сенокосную пору окурат. У Демьяна баба на сносях была, и именно о сей момент ей опростаться приспичило. Сенокос сенокосом, но и дела ентова по желанию не отложишь. Распросталась баба, слава те Осподи, чередом, без осложнениев. Демьян-от до селе несколько годков все никак не мог дитя нажить – то ли бабьей линии вина была, то ли мужней – бог то ведает. А тут враз затяжелела баба, да и распросталась дитем. От радости безмерной Демьян, до селе хмельного редко употреблявший, загулял сам, да и мужиков деревенских всех в повал уложил, баб деревенских такмо же всех до единой угостил.
А сына свово на третей день к нам на хутор принес и окрестил его у наших монашек. Имя ему из святого писания дал – Никоном нарек.
Радость радостью, да и сено выставлять надобно, покудова «ведро» стоит. Не приведи Осподи, коли дожди прольются. Засеногноит – беда.
Поехал Демьян на утро с братухой Филькой к дальнему покосу, а в голове похмельные гуды, в телесах ломота и в чрёвах расстройство великое – потому, вишь ты, организма-то его к хмельному была не привыкшая.
Отъехали они с Филькой от деревни верст пять, не далее, и тут у Дёмки так кишку скрутило – жуть. Никакого спасу нет. Да и голову будто кто обручьями стянул. Не вытерпел страдалец, соскокнул с телеги, за живот схватимши, и трепанул в кусты. Излажает он тама свою нужду, а голова и того пуще гудом исходит. Сидит мучельник под кустом и клянет себя на чем свет стоит, что не прихватил с собой ничего для похмеления. Ну, дескать делать-то нечего.
Справил он свою потребность и для чистоплотия, значица, за травкой потянулся. Рванул пучок-от и глазам своим не верит – в руке вместе с травой бутылка с жидкостью, сучком липовым заткнутая, поблескивает.
Сорвался Демьян из-под куста и к телеге – в одной руке бутылка с жидкостью, портки на подколеньях висят, а другой рукой крест на чело ложит и вопит не своим голосом не менее его очумевшему Фильке, решившему, что Демьяна в кустах медвидь шугнул, то ли он с похмелья умом пооскудел чуть.
Но когда Филя узрел в руках у брата бутылку с жидкостью, глаза его обожгла радость, и он весь зардел блаженной улыбкой. Похмелье мучило его не меньше, чем самого Демьяна.
«Это лекарствие, Филя, ниспослано нам самим Господом Богом, вот те крест», – в очередной раз осеняя себя крестом гудел Демьян, откупоривая зубами бутылку, из которой потянул ядреный запах первача…
Гордеич вдруг умолк, о чем-то задумался, почесал заскорузлой рукой бочину и, как бы продолжая свою думу, снова заговорил:
– Да-а… Вот, вишь, какая история-то с Демьяном-лесовиком приключилась. Сотворил праведный мужик богоугодное дело, окрестил сына, люд уважил, Господь Бог и пришел к нему с помощью в нужный момент – вложил в руки страдальца лекарствие. А вот за какую провинность, а может, и надобностью он к себе его раньше сроку призвал – умом не осилю. Мужик-от он правильный был… Ну да Господь с ним. Господу виднее, ково карать, а ково миловать, – зевая, закончил Фотей Гордеич, и крестясь перевалился на другой бок.
Через минутку-другую я услышал неровное, с присвистом, старческое дыхание – усталость минувшего дня взяла свое – и Гордеич забылся в коротком, зыбком сне.
Я осторожно встал, накрыл старика своим плащом и еще долго сидел у жарко горящего костра, размышляя о жизни своего старого, но надежного друга.