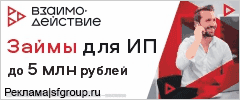Последний медведь
То ли годы берут свое, то ли душа стала остывать к былым охотничьим баталиям, то ли что другое – не пойму, но последние годы стал замечать, что в охотничье межсезонье все реже и реже вспоминаю весенние зори той поры, проведенные на моховых, глухариных заболотях, и хорканье вальдшнепа над свежим зеленеющим бархатом березовых перелесков.
Уже не жду с тем неудержимым трепетом и нетерпением некогда захватывающей все мое существо осенней, на седеющих августовских овсах, медвежьей охоты.
Но это вовсе не значит, что я перестал любить охоту, перестал ощущать взаимосвязь с природой. Нет. Просто с годами стал больше осмысливать, больше понимать ту ее сторону, которая отражает в себе эстетическую ценность самого процесса, а не ее конечный результат…
В начале августа я получил по почте письмо от моего старого друга Фотея Гордеича. Старческим, корявым почерком писал он: «… Уж ты, Митяюшко, наведайся осередке месяца-то обязательно. Ползал я намедни к дальним пашонкам, на коих ты белёсую-то о третьём годе обстрелил, губы проведовать. А пашонки те сей год овсом обсеяны. Дородный овесец ныне назревает. Да диво-то не в том, что добр овёсец зорится, а в том, что на Иванов день его медвидь опробовал. Знать, жди – в скорости и по серьезу начнет на нем жир нагуливать. Уж ты поверь старику, в осерёдке месяцу самая пора будет окарауливать те пашонки. А лабазы и старые в дело пойдут. О той поре я их подлажу. Как поедешь, то прихвати в аптеке суставной мази. Хворь костная мучит и меня и мою старуху, особливо на непогодь, шибко. Приезжай к сроку и без воздержки. Хуторской Фотей».
Вот так, получил письмо с приглашением на медвежью охоту, и в душе что-то перевернулось, всплыло из глубин ее то затаенное, чем когда-то жил, чему посвящал все свободное время. И вдруг неудержимо захотелось встретиться с Гордеичем, услышать его прокуренный, скрипучий голос… И трудно понять, к чему больше рвалась душа: то ли к предстоящей охоте, то ли к встрече с Фотеем.
Едва дождавшись открытия охоты, я бросил все городские дела и поспешил на хутор к Гордеичу. По дороге представлял себе нашу встречу. Фотей Гордеич, как всегда, встретит меня, едва заслышав шум машины, выйдя на крутое, рубленое крыльцо пятистенной деревенской избы и широко улыбаясь своим беззубым ртом, лукаво прищурив отбеленные временем голубые глаза, радостно проговорит из года в год повторяющуюся при нашей встрече фразу: «… Прибыл, значится. Ну и слава те Осподи. Опеть довелось узреть тя. Стал быть, поживем покедова». А когда я подымусь на крыльцо, Фотей прижмет меня к своему сухому, жилистому телу и, нежно хлопая заскорузлой ладонью по моей спине, добавит: «А ты, Митяй, опал телесами-то. Ну ниче, медвидь, он на овсах тело набирает, а человече на медвежьей охоте душу радостью полнит и тем аппетит разнуздывает. За недельку старуха тело твое приведет к порядку. Да-а-а. Ты как, в отпуск, аль так, наскоком? Ну, ну-у. Ступай в избу. Дай старухе на тебя порадеть. Ждет сердешного, не дождется».
Сколько лет езжу я на хутор к Гордеичу, и всегда от слов старика веет таким душевным теплом, что сейчас и мне делается не по себе, потому как последние годы все реже и реже навещаю я этот гостеприимный дом, в котором всегда бываю желанным гостем.
За воспоминаниями я не заметил, как мы подъехали к хутору. Приятное волнение от близкой встречи с Фотеем Гордеичем заставило учащенно биться сердце, радостью наполнило душу. Но к моему великому удивлению Гордеич, как всегда бывало раньше, не стоял на крыльце, и это было противоестественно. Промелькнувшая было мысль, что стариков нет дома, отпадала сама по себе – в притворе ворот не стояло старого голика. Замков на хуторе не признавали.
Предчувствуя недоброе, я поспешил из машины к знакомому крыльцу. В это время дверь избы с непривычны скрипом отворилась, и на крыльцо, еле переставляя не сгибающиеся, обутые в старые, заплатанные катаники ноги, опираясь на суковатую березовую палку, вышел согнутый ношей прожитых лет старик. Ошеломленный, я остановился и не в силах был двинуться с места. Старик смотрел на меня подслеповатыми, слезящимися сквозь прищур глазами. В нем я с трудом признал Гордеича, с которым столько было исхожено таежными нелегкими тропами, который поведал мне не одну лесную мудрость, коротая долгие зимние ночи у жаркого охотничьего костра.
За тот год, что я не видел Фотея, он, если не окончательно, то крепко сдал. Восемьдесят шесть нелегких прожитых лет придавили его своим немалым грузом, и вот старик не выдержал, согнулся, как сгибается дерево в зимнюю непогодь под тяжестью свалившегося на него мокрого снега. Чувство жалости и непомерной тоски обуяло мою душу. Слезы против желания выплеснулись из глаз, и я, бросившись к старику, заключил его иссохшее тело в свои объятия. Руки Фотея, выпустив посох, легли на мои плечи, и я уже не ощутил в них той былой силы.
– Что, Митяюшко, шибко оробел на немочь Фотееву? То-то же. Но не сумлевайся, к господу раньше святок не отойду. Дело у меня есть, дело святое, не справив которое, не должон я покинуть нашу суетную обитель. Да-а-а. А ты, гли-ко, телом-то тоже поусох. Не хвороба ли какая нутро сосет? – заглянув мне в глаза, с тревогой в голосе спросил Гордеич.
– Да нет, Гордеич. Здоров я, здоров пуще прежнего, а вот тебя признал еле. Гляжу и не узнаю – вроде ты, а вроде и нет. Извини, Фотей, что долго не наведывался, все дела да заботы разные. Вы хоть письма-то мои получали?
– Получали, и открытки к праздникам получали, и посылку тоже. За толоконце и дрожжи тебе старуха особливо спасибо скажет. Толоконце-то, оно нам со старухой теперя наипервая пища к столу. Мы его и с ягодой и с молочком потребляем. По нашим десенкам продукта… Да что мы тут истуканами стоим, – засуетился вдруг Фотей Гордеич, – давай заходь в избу. Старуха хоть и хворая туда же, а давно тебя поджидает. Еловиков-первослойков про тебя припасла и сама не употребляет – все хранит. Ступай, ступай, порадуй старую.
В горнице почти ничего не изменилось. В ней царствовали те же уют и простота, что и десять, и пятнадцать лет назад. Стол был уже накрыт, и мы, перекусив и вдосталь набаловавшись горячим чаем с вареньем из кислицы – красной дикой смородины, – вновь вышли с Фотеем на крыльцо.
Пока мы пили чай и вот сейчас, сидя на ступеньках крыльца и пуская сизые клубы дыма от самокрутки один за другим, Гордеич был непривычно молчалив и непонятно задумчив. Я не приставал к нему с расспросами, силясь понять непривычное поведение старика, зная, что если он сочтет нужным, то сам поведает свои думы.
После очередной глубокой затяжки Фотей с булькающим присвистом выдохнул из себя едкий дым и, еще ниже опустив облыселую начисто голову, тихо заговорил:
– А ведь нету у меня, Митяша, ружьеца-то боле. Не-е-ту… Ну того, коим ты меня к семидесятипятилетию от роду одарил… Лишил меня его нехристь безбожная. С того моменту, как ружьеца лишился, хворь-то и зачала меня шибко донимать, – старик снова надолго и глубоко задумался, и я не осмелился потревожить его вопросом. – Никому о том не поведал, даже старухе своей всей правды не вымолвил, а тебе скажу, потому как шибко худ стал, - снова заговорил Гордеич, – никогда смерти не боялся, не единожды косой в зенки глядел, не одрогнув, а теперь вот страшусь. Боюся, что помру, зло на земле неотмщенным оставив. А окромя меня только ты, Митяй, вывести его на чистую воду можешь. Но только вразумей – взяться тебе за него разрешаю лишь тогда, если помру, сам его не осилив. В чем, Митяй, ты и дай мне слово. Не потому прошу его, что вера в тебя иссякла, а от того, чтобы ты опередь меня, покудова я жив, к нему касательства не имел. Это не дозволительно… Ну, так как?
– Да что ты, Гордеич! Конечно, обещаю исполнить все так, как ты того пожелаешь.
– Ну и ладно. Так-то и душе спокойней за тебя будет. На рожон с бую не бросишься.
Так вот, слушай. Прихворнул я ноне в конце-то сезона малость. Пришлось потому схваты на куниц по насту спруживать. Ну те, кои за грязными ключевинами еще тобой ладились. Ближние-то я до хворобы опрудил. Потемну вышел. Корка крепкая, без лыж здымает, но ход шибко хробосткий. Спешу, однако, солнце корку съест – овыдень не выбраться. В лесу ночлежить – годы не те, а по насту, что по горнице – ход не грузной. Верст с десяток так отмахал и не охнул.
И вдруг вижу – поперек моего ходу след чей-то пролег. Подошел ближе, глянул и, поверишь, - нутру холодно стало. Захолонуло нутро. След-то сохачий, и по обе стороны от него по насту сгустки кровяные, пеной еще исходят. Со стреляным дыхом зверь-то пропер. Кинулся я в пяту. Уж коль подранок не добран, знать, не одна туша где-то на снегу стынет. Тайга наша давно такого разбою не испытывала.
Знал я за чистым болотцем островину, куда по глубоснежью табун в семь голов на отстой зашел – благо, кормина там вдосталь имеется. А след-то кровистый с той стороны аккурат и вытянул. Туда впрямки я и двинул. С версту до болотца не дошел, как дымком на меня напахнуло. Ноги сами пуще прежнего навстречу беде понесли.
Пересек я чапыжник и к болотной гладине выскочил. Остановился и не вдруг понял, что со мною содеялось. В глазах все красными сполохами пошло. Смежил я свои гляделки, протер снегом, открыл и понял – не блазнится мне. Весь снег на болотной гладине кровью выкроплен. По этой сукрови насчитал я несколько сохачьих туш. И тут, словно во сне, донеслось до меня:
-Э-эй, Гордеич! Здорово, пень трухлявый. Вижу, все еще по суземам праведным волком рыщешь. Ты, как ворон, на кровя налетел. Теплого мяса никак захотел отведать? Ну, ну-у-у! Подходи, я угощу. Не жадный я. Щедрость мою и Демка-лесовик на себе испытал. По сей поре своим близким поклоны с того свету шлет и Фильку-оборотня почем свет благодарит, что столь ладненько спровадил его к своим прадедам в гости на веки вечные.
Что огнем ожгли меня слова те. Ведь Демьяна-лесовика доселе считали бесследно сгинувшим в тайге на зимнем промысле. А оно вишь куды выплывало? Выходит, его в суземе Филька-оборотень схоронил. Знать, накрыл его Демьян на блуде таежном, а тот его и кокнул.
Кинулся я на Фильку в ярости, а вот что опосля содеялось, убей бог, не помню. Очухался под сумерки, голова гудом исходит. В телесах слабость непосильная. Кое-как до пожога дополз, а в пожоге уголья стылые – упеплились уже. В костерище обнаружил я остатки от приклада да обгорелые камусья от лыженок. Ни спичек за пазухой, ни топора за поясом. От котомки с провиантом только заплечины остались. Все предусмотрел оборотень. Без харча да без лыж в экую убродь и молодому-то ноша в немочь, а про меня и судить попусту. А погода смягчила круто. На это, видать, и бил Филька. Все ладно рассчитал. Думал, не выберусь, сгину в тайге. А я вот не сгинул. И как жив остался – до сей поры умом не осилю. На третёй день в двух верстах от хутора обнаружила меня, чуть теплого, старуха. На чонках к избе выволокла. Три месяца опосля этого с лежанки не подымался. На четвертый с трудом на ноги встал, да хворобы-то всей из телесов и не изжил.
С той поры и жизнь не в радость движется, но и на тот свет уйти совестно, поколе Фильке-оборотню за себя и за Демьяна отмщения не слажу.
Гордеич, задумавшись, умолк. Молчал и я, переживая и обдумывая сказанное стариком.
– Фотей Гордеич, почему же ты сразу не отписал о случившемся? Что у нас, Советской власти нет что ли, чтоб наказать какого-то проходимца?
– Советская власть, говоришь, - не вдруг ответил Гордеич. – Есть она, Советская власть-то. Хорошая, однако, власть. Да только Филька-то в мою душу, что в помойную яму, свою погань выхаркнул. Да и за Демьяна с него разве Советская власть сей момент спросить может? Ведь двадцать с лишком годков тому минуло. Вот и поди, докажи, что это он Демьяна со свету сжил. Брешет старик – вот и вся недолга. И за сохачей с него чо теперя взять? От них поди и косточек в тайге не осталось. Пока я лежак боками обкатывал, медвиди по весне их по суземам разволокли. Вот и выходит – нету супртив оборотня уликов-то. Не-е-ту. Да и не к чему они.
Я ему сам, свой, Фотеев суд сотворю. По своему пониманию и по нашим – стариковским таежным заповедям вершить его буду. А уж коль помру раньше времени, то ты, Митяй, по своей совести и по советским законам осуди его. Это мой наказ тебе. Филька-оборотень не остановится сам. Не тот он человек, чтобы в суземах заместо зла добро сеять. В тайге, Митяй, теперя медвидь, да Филька-оборотень хозяева…
В пору, когда солнце катило свое раскаленное тело к закату, цепляясь нижней кромкой остывающего диска за зубчатые вершины стен ближнего ельника, со всех сторон опоясывающего хутор, мы с Гордеичем направились к заветным пашенкам. Для моих, в общем-то еще не совсем истоптанных, но уже изрядно побитых о лесные колодины ног, путь в две версты с гаком был делом плевым, но для Фотея с его истоптанными по дрёмным сузёмам и мочажинным болотинам, искореженных в суставах ревматизмом ног, с восьмидесятью шестью годами за плечами, путь этот был ношей и ношей немалой. Поэтому мы и вышли загодя, с учетом Фотеевых сил и возможностей.
Свою старенькую, уже давно отслужившую верой и правдой одностволку, Гордеич как-то стеснительно спрятал за спиной, и мне стало неловко за мою вертикалку – точно такую же, что я десять лет назад подарил Фотею Гордеичу на семидесятипятилетие. Чтобы как-то сгладить неожиданную неловкость, я обратился к Фотею с вопросом, который не давал мне покоя:
– Скажи, Гордеич, а ведь тебе очень хочется самому ухлопать этого медведя, ведь так? Или я ошибаюсь?
– А ты, Митяй, дошлый. От тебя не украдешься. Ты и человеческую душу, што таежную тропу, читаешь… Меченой он, медвидь-то, мной отмеченный. Говорил я тебе, што теперя в тайге два хозяина, а ты мимо слуха-то пропустил.
– Да нет, не пропустил, но до конца умом не дошел – с чего ты вдруг на медведя зло в сердце заимел. С чего бы это?
– С чего, спрашиваешь? Да всё с того же Фильки-оборотня. Не дошло? Вижу – не дошло. Товды слушай.
О сенокосную пору зачали вдруг у нас в бригаде откормочные телки из клеток пропадать. Первый грех на волков пал. Их разбой раньше у нас знавали. Я в ту пору хворый был, а окромя меня на хуторе, сам ведаешь, одни бабы, а от бабы в этом деле какой прок. Раз задран телок – стало быть, волки – и сказ короток.
Фроська-телятнца стрекочет по хутору, что задерут вовки телка, кишки выпустят, а саму тушу в кустах под колодником захоронят. И до меня дошли слухи те, прикинул я что к чему и усомнился – больше на медвежий, чем на волчий разбой смахивает.
Хвор был, а душа не вынесла. В сопровождении старухи кое-как добрался до того места, где расправа случилась. И впрямь вижу – не волчья, медвежья то работа. И меня это озадачило шибко, и беспокойство в душу вселилось немалое. Мясоед – он и человека при случае не пощадит. Да-а-а…
– С чего бы это, Гордеич, в твоей вотчине вдруг скотник объявился? – поинтересовался я.
– Филькина робота, – сказал, что обрезал, Фотей.
– Как – Филькина? Не понял.
– Ишь ты. Не понял он. А раньше, вроде, понятным был. Да ты раскинь умом-то. Как появился в наших краях оборотень, так вскорости и этот живодер объявился. Да только не звирь – медвидя вина, что он мясоедом стал, а того самого Фильки. Он медвидя к тому пакостному делу приучил. Верно говорю. Он. Да ты шатись в любой сузём, спроведай сохачьи тропы и сам в том убедишься. Все лазы звериные стальными ожерёлками опутаны. Уж это верный факт. А опосля прикинь, сколько в них звиря сгинуло. Омытые дождем да отбеленные росами косточки тебе сами о том поведают. Медвидь что, раз хватил мясца, другой, ну и потянуло его. Мясо не корешок, не ягода – калориев в себе больше имеет. Самому-то медвидю лося не просто взять, а в петле ешь до отрыжки, до объеду. А опосля лося телки в дело пошли. С ними медвидю проще. Телок не сохатый… Ну как, теперя уразумел, что к чему?
– Уразумел.
– Ну и ладно, коль взял в понятие. Вот и решил я убрать звиря, пока он больших бед не наворочал. Две ночи его у падали караулил, да только медвидь умнее меня оказался. Я его здеся жду, а он о той поре в клетях другого телка задрал и, потроха выев, в колоднике упрятал…
А встретился я с ним случайно, о полудни, когда к новой жертве его с приглядом шел. Он, окоянный, осередке дня, супротив всяких правилов, расправлялся с остатками телка. Нос к носу у его захоронки мы столкнулись. И, поверишь, оторопь меня взяла. Столь не баско он на меня глянул – упаси бог еще кому такое увидеть. В глазах злоба силы великой, в пасти кусок стегна, с которого живыми каплями падала кровь на вытоптанную вокруг землю. И уж шибко великим он мне показался. А может, вздыбленная на загривке шерсть его размер увеличивала. Но все одно – звирь огромадный. Уж сколько мы в оторопи стояли, зырясь друг на друга – не знаю. Я в тот момент и о ружье забыл. И только, ковда зверюга, выпустив из пасти мясо, рявкнул, развернулся и не спеша стал уходить через рединник, я очухался малость и пальнул ему в уход. Пуля-то шибко заднюю правую лапу ему обранила. С той поры телят он не трогал. А сейчас вот на овсах объявился. Задорно ходит и смело. Взять, мыслю, будет его не трудно…
Слушая рассказ старика, я не заметил, как мы подошли к старой, два года назад поваленной бурей березе, которая лежала у ближней кромки овсяного поля. На её, еще не сгнившем стволе, мы решили передохнуть и бросить жребий – кому на какой лабаз садиться.
Мне очень хотелось, чтобы лабаз на первой пашенке достался Гордеичу, так как здесь выходы абсолютно свежи.
Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Короткая спичка, означавшая первую пашенку, досталась мне, длинная – дальняя пашенка – Гордеичу. Воля жребия для нас была священна.
– Ну что, Митяй, так Богу угодно. Мыслю, что эдак-то оно и лучше. На твой вертикал надежи больше, чем на мою клюку.
Больше об этом и не говорили. Докурив самокрутку, Гордеич оглядел прищуренным слезящимся взглядом окрестность, что-то пробормотал про себя и начал подниматься.
– Пора, Митяй, пока доберусь до схрона да взберусь на него, и время самое то будет.
До засидок оставалось метров триста, и мы прошли их, не проронив ни слова, думая каждый о своем. К лабазу Гордеича подошли с поля, стараясь не следить на закрайках. Фотей поставил свой одностволок к стволу ели, где был устроен лабаз, и я помог ему на него взобраться.
– Держи, Гордеич, – нарушил я молчание, протягивая старику сквозь нижние ветви ели свою вертикалку.
И только, когда ружье оказалось у него в руках, старик понял, что это не его, Фотеево, ружье, но такое же привычное и удобное, напоминание о котором бередило душу.
– Ты что, Митяй! Ты что еще экое замыслил? Выдуй блажь из мозгов, подай мне мой одностволок.
Я вытащил из патронташа два патрона и снял его с пояса.
– На, возьми, Гордеич, мои патроны надежнее, свежей зарядки, – и, чтобы прервать дальнейшее ворчанье старика, взял его ружье и поспешил к своей засидке…
…В час, когда вечер густой молочной пеленой тумана стал выплывать по прилегающей к нижней кромке пашенки ложбине из глубокого, вечно холодного, заросшего густым подсадом ельника буерака, я услышал подходящего к месту жировки медведя. Надоедливо-беспокойная трескотня вдруг потревоженных дроздов безошибочно указывала путь, по которому шел зверь. К месту кормежки медведь подходил своей, уже набитой тропой, которая выходила в поле ниже моего лабаза, метрах в пятнадцати, ближе к буераку, и шел смело, не таясь. Шел так, как ходит истинный, уверенный в себе хозяин при обходе своих владений. И лишь в кустах, прилегающих к краю заполька, медведь остановился, с минуту выслушивая вечернюю тишину, и черной глыбой выплыл в сумеречное поле. Был он огромен, и чувствовалась в нем какая-то независимая ни от чего силища.
Жировать медведь начал сразу, без присущей его собратьям осторожности. Опрыскивая овсяные метелки и звучно чавкая ими, сильно припадая на правую заднюю лапу. Зверь продвигался к середине неширокого поля, все ближе и ближе к противоположному перелеску, за которым находилась соседняя пашенка, которую окарауливал Гордеич.
Медведь уже минут десять бродил по овсу, метрах в тридцати от моего лабаза, а я все никак не мог налюбоваться на эту дикую звериную красоту и ту мощь, которой наделила природа зверя, которая чувствовалась в каждом его движении.
Смолисто-черная, отливающая серебристым блеском, шкура медведя могла бы стать достойным экспонатом самого изысканного охотничьего музея, и как трофей не имела цены.
Медведь, между тем, приблизившись к противоположному перелеску, вдруг слегка присел на задние лапы, сгорбил спину. Момент для выстрела был самый удобный. Подняв к плечу Фотеево ружье, я подвел мушку под переднюю лопатку и почувствовал, как сейчас смертоносный кусок горячего свинца остановит, оборвет жизнь этого зверя, и моему старому другу Гордеичу уже никогда больше не представится возможности убить «своего» последнего медведя.
Опустив ружье на опорные перекладины лабаза, я осторожно дотянулся до сухого нетолстого сучка и надломил его. Зверь резко повернул голову в мою сторону, несколько секунд постоял, чутко вслушиваясь в нарушенную тишину, развернулся на месте и скрылся в кустах перелеска, отделяющего пашенки одну от другой.
Я знал, что медведь за то время, что жировал на моей пашенке, не утолил своего звериного аппетита и, спугнутый треском сучка, перейдет кормиться в другое поле – туда, где его ожидал Гордеич.
Поэтому выстрел, прогремевший с лабаза Гордеича, не явился для меня неожиданностью. Через минуту после первого раздался второй выстрел. И я, спустившись со своего лабаза, направился в соседнее поле.
Гордеича я застал сидящим на остывающей, поверженной туше медведя, прикуривающим свою в палец толщиной самокрутку от догорающей и обжигающей пальцы спички. Тусклый отсвет разгорающейся цигарки вырвал из сгустившихся сумерек задумчивое, испещренное глубокими морщинами лицо старика, на котором я не заметил следов радости и возбуждения, обычных при удачной охоте. В недоумении я остановился перед Гордеичем, который, казалось, не заметил моего прихода, и даже забыл поздравить его с успехом.
– Ты что, Гордеич, кажется, вовсе и не рад своей удаче? – обратился я к старику, чтобы как-то нарушить это неловкое, затягивающееся молчание.
– Рад, Митяй, шибко рад, хотя удача это больше тебе, чем мне приходится. Потому и рад, что уверовал в то, что пока есть на земле-матушке люди такие, как ты, людям подобным Фильке-оборотню нет и не будет на ней вольготной жизни. Верю в то, и от веры сей на душе светлеет. Но не скоро еще сумеем мы очистить наши таежные сузёмы от двуногих хищников. Их ведь так просто, как этого медвидя, не изведешь, потому как они человеческое обличье имеют. У них сознанье перевернуть надобно. А это непросто… Слава богу, с одним опасным зверюгой покончено, но куда еще более опасный звирь в личине Фильки-оборотня шастает сейчас по таежным тропам, истребляя на них все живое. И покудова он зорит нашу тайгу, нет и не будет мне покоя. Помяни моё слово, Митяй, как только дохнет зазимок в таежные дали, Филька тут же подасся в леса на свой звериный промысел. А я до той поры буду молить Господа, чтобы дал он сил мне выйти на свою последнюю охоту и совершить свой Фотеев суд над зверем, куда более страшным, чем этот, последний мною убитый медвидь, ставший по вине того же оборотня опасным для человека…
Гордеич глубоко затянулся, с минуту помолчал и, как бы подводя итог нашей охоте, добавил:
– А шкуру ты себе возьми, она тебе по праву приходится.