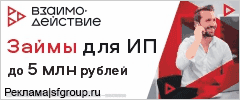Сизый шилохвость (Рассказ, Ч.5-6)
5.
В бане ему показалось нехорошо и неуместно жить тут в самую Пасху.
Он разулся, мокрые носок и голицу положил еще на горячую каменку. И вода в котле была горячая. Он хотел помыться, но в праздник побоялся: "Вчера надо было, в субботу, как все люди..." Но и жаль было горячей воды: ее следовало выливать. Он набрал два ведра из котла, поставил их возле улья, принес котелок с чаем. Голые ноги сунул в ведра и стал пить чай с сухарями - прогревался снаружи и изнутри. И был доволен своим изобретением.
Остатками воды из котла он вымыл ложки и котелки. Прибрался в бане, повесил сеть и тулуп на прежнее место. Оглядел все, с радостью замкнул старый замок на двери и двинул в другие поля, к дому.
И в этих полях снег уже сошел почти весь, туман прижался к лесу, с мочажин взлетали чибисы, и шагать было легко и весело. Но не выходило из головы прошедшее утро: шилохвости, предохранитель, колокол... Он опять перебрал в памяти весь "путь" ружья от взвода до выстрела. И не было такого момента, когда он ставил ружье на предохранитель. Не было. Разве только полный провал памяти. Но сам он за собой такого еще не замечал. "А ведь случилось невероятное! Неужели и в те, евангельские времена совершалось все вот так просто, буднично? Да, мне не было никаких видений, знамений, как апостолу Павлу, если не считать страшный сон в бане, мать на березе... А теперь все как бы уж и потускнело, прошло. Но почему я так бесчувствен ко всему этому, так легко оставляю все позади? Наверное, потому, что закостенелый грешник. Окаменел, покрылся грехами как коростой до бесчувствия. Вот и не пронимает меня это. Таким, как я, надо по голове бить, дубиной. И не один раз, а три раза подряд... Но ведь и они сомневались."
Он вспомнил из Евангелия Никодима, Фому, апостола Петра. Более всего Николай осуждал Петра: "Как же он мог отречься от Христа в ту ночь в Гефсиманском саду! И даже трижды... Непорядочно как-то ..." Николай представил на месте Петра своих людей в порту... "Нет, у нас такого не простили бы. И ведь клялся еще перед этим, заверял... Я бы так не смог, никогда. Не по-флотски это. А ведь он рыбак. Вот тебе и камень веры - Петр!"
Николай шел один в блестящих солнечных полях. Шел напрямик по запущенной непаханной земле, никого не было вокруг, и он на ходу говорил сам с собой как полоумный. "А молодые они были, - наконец, нашел он оправдание Петру и другим апостолам, - вот и колебались". И даже сам успокоился.
Идти было не близко, четыре километра, и он шел как-то на удивление легко, и силы у него не иссякали. Правда в кармане лежали остатки сухарей от охотничьих запасов, и он ел их помаленьку, подкреплялся.
Нагулявшись вдоволь, к дому своему он пришел в полдень, когда все уже притомилось и в лесу, и в полях.
Он открыл дверь, вошел в дом, огляделся: никакого праздника в избе не было. За три дня изба снова выстыла, надо было топить печь, а заодно и варить какую-нибудь похлебку. С чаю да сухарей его уже слегка пошатывало.
Выйдя на улицу, он пошел вдоль изгороди поискать какого-нибудь сушняку, чтобы растопить печь и был удивлен, как много растаяло снегу вокруг дома за эти три дня. На улице было теплее чем дома. Только он нагнулся за сушняком, как над самым ухом раздалось распевное: "Христос воскресе-е..." Это была соседка Вера, одинокая старуха, она что-то делала под яблоней за тыном.
- За рыбой-то ходил? - продолжала она, будто Николай никуда и не отлучался из своего дома.
- Нет еще, - неохотно ответил Николай. Не ожидал он ее сейчас, и не было никакого настроения разговаривать.
- А ты сходи, сходи на берег-то. Рыбаки к вечеру вернутся. Петька продает, у него хорошо ловится.
Ни печь топить, ни за рыбой идти Николаю не хотелось. Он занес сушняк в дом, потом сел на крыльце, разулся и с безразличием ко всему сидел, грелся на солнышке. Потом откинулся навзничь, лег головой на порог и так крепко уснул, что очнулся только к вечеру, когда солнце скосило уже за баню. Рядом с головой в шапке лежали два оранжевые пасхальные яичка.
"Это Вера, соседка, - улыбнулся Николай. - Надо ей помочь чем-то, хоть дров наколоть. И он подумал, как, наверное, тяжело жить одной. - Я вот за три дня и то измотался".
Он вспомнил о рыбе, на ходу облупил одно яйцо, ткнул им в соль, сунул кусок хлеба в карман, схватил мешок и скорее побежал под гору.
Река сверху предстала широка и раздольна. Небо над разливом красовалось чистое, ясное; хвойные леса заречья синели четко. Какая-то легкость была растворена в воздухе, невесомо парили чайки над широким поднявшимся разливом, кричали, садились на воду. И Николай опять вспомнил слова покойной матери: "В этот день всякая тварь радуется." И ни единого теплохода, ни одного плота не было на реке, будто вымерло все. Впервые Николай видел свою реку по весне такой, подумал: "А может, и здесь воля Божия? Устали реки от наших трудов, планов, суеты, солярки, масел... Может, жизнь рыбы, птиц для будущих поколений важнее наших производств?"
Возле рыбацкой будки никого не было, и Николай понял, что все уже накупили рыбы вчера, перед праздником. Для достоверности он решил заглянуть за самую будку, но из-за угла ее вышла матерая овчарка, подняла шерсть на загривке, угрожающе зарычала. И Николай понял, что она тоже ждет хозяина и заодно охраняет будку. Он бросил мешок на луговину угора, сел на него и стал ждать в отдалении.
Лодки среди широкого разлива виднелись повсюду, и близко, и далеко. Значит, на одной из них был и хозяин. Ждать было не скучно: на огромном речном море царило умиротворение, покой, даже дальнее урчание моторов не нарушало вечерней благости, а только выявляло ее.
"Большой день у меня сегодня, - думал Николай. Две реки, два дома, два сна, два промысла - и все пустые." Он усмехнулся и удивился тому, что и не обижен и не устал. Но шилохвостей все же было жаль: "Ведь всю жизнь мечтал... А шли-то прямо над головой, э-эх!.." И он еще раз удивился совпадению "выстрела" и удара в церковный колокол: "Будто подстроил кто с точностью до секунд..." Это совпадение ввело его в душевное смятение, которое так и не проходило.
Рыбак Петр, или Петька, которого он ждал, был его одногодок, они вместе учились еще в школе. Рыбу ловил он не себе, а "государству", как говорили. Он работал по договору с Юрьевецким рыбзаводом, вырабатывал пенсию.
Николай ожидал его издали, с моря, а он как-то тихо, на малых оборотах мотора вывернулся из-за лесного берега.
Пока Николай спускался к воде, он уже открывал будку и разговаривал с собакой.
- Метель! На!.. - бросил ей живого язя. Собака поймала рыбину налету и убежала на берег есть.
- Рыбы продашь? - шутя спросил Николай, подходя к лодке.
Продубевший на весеннем ветру и уже загоревший Петька с улыбкой протянул клешнястую, твердую, будто дубовый корень, руку:
- Выбирай! - махнул он на лодку, на одну треть заваленную лещами, сорожняком, судаками.
Рыба была отборная, чистая, живая. Разогнув голенища резиновых сапог Николай помог подтащить по мелководью лодку к будке, а потом и выгрузить рыбу на ледник, который был здесь же, в будке. Хотя тут и безо льда было холодно: будка стояла на песчаной отмели и под полом дышала ледяная вода.
Петька наложил почти полмешка рыбы, спросил улыбаясь:
- Хватит ли?
- Да куда ты столько! У меня и денег-то всего на две-три ухи.
- А я с тебя больше и не возьму. Сегодня праздник - Пасха!
- Ну... Тогда ладно, дорасчитаюсь потом.
Посидели, глядя из дверей будки на море. Уж больно тихо было, любо.
- Мреет, - сказал Петька, - самая пора рыбачья.
- Сегодня весь день тихо.
Николай увидел возле косяка двери утку-нырка на полу и удивился, что он был такой же породы, как вчера на озере и после выстрела улетел. Это был гоголь.
- Ты что, охотишься? - кивнул он на гоголя.
- Да в сеть запутался утром, еще живой был... Бери, если хочешь, а то отдам вон собаке. Мне некогда с ним возиться. Едва до постели доберусь - и валюсь пластом, замертво. А утром опять надо ехать. Сезон...
- А я только сегодня с Нёмды, на Бабьем озере был, ничего не убил, и не поймал, - усмехнулся Николай.
- Ну вот, теперь, считай и убил и поймал, - улыбнулся и Петр. - Охота и рыба - дело такое. Месяц будешь мотаться - ни одной молявины не добудешь. Ты один живешь?
- Один.
- Жена в городе?
- Жена и дети.
- Это правильно. А то одному мотаться плохо. Заходи.
И они устало, медленно, едва таща высокие сапоги на ногах, поплелись в гору. Каждый к своему дому.
Петру было до дома ближе, и когда он скрылся за огородами в проулке, Николай сел отдышаться в полугоре.
Никуда он больше не торопился теперь: все у него было сделано-приделано. Он был на родине, и никто его не торопил, не упрекал, не мешал...
Чайки на море утихомирились, солнце садилось и освещало уже только далекий противоположный берег, готовый ко сну.
И тут Николаю захотелось в свой дом, впервые как хозяину. Потянуло почему-то.
6.
Он растопил русскую печь, тут же, на шестке, ощипал гоголя, потом на улице почистил рыбы на уху.
Когда в печи появился жар, Николай засунул к углям все сразу: чайник, утиную похлебку и кастрюлю с ухой. Пока все там закипало, упревало, иногда выплескивалось на угли и шипело, Николай ходил по избе, прибирался; занавесил окна, вымыл клеенчатую скатерть на столе и принялся снашивать ложки, соль, перец... Потом, (постоянно помятуя об этом) нащупал в дорожной сумке завернутую в газету бутылку водки. Торжественно увенчал ею стол.
И настал вожделенный момент: он стоя поднял стопку и, осязая пар от ухи, сказал: "Христос воскресе!" Выпил и ответил сам себе со смирением: "Воистину воскресе". Потому что чувствовал, что не очень достоин этого праздника.
И все-таки его тянуло уже на веселье, браваду: он был в своем доме, на столе имелось вино, уха, в печи допревала дичь... Так все неожиданно хорошо обернулось, что о бане, неудачной охоте и вспоминать не хотелось, будто все это было какой-то случайной полосой в жизни, которая уже прошла и больше ее нет и не будет. За избавление от всех своих страданий он выпил еще стопку и припал к ухе. Первую тарелку он съел без передыха, на второй стал уже как бы уставать и бездумно подолгу глядеть в одну точку перед собой. Наконец, одумался, вынес кастрюлю с ухой в сени и крышку придавил камнем, от мышей.
Дичь он берег напоследок, на потом. Она еще доходила в печи, и он ее пока не тревожил. Чтобы потянуть время он сходил и принес мелких сухих дровец со двора и для полного счастья затопил и маленькую печку-подтопок. Сел напротив и почувствовал себя если не счастливым, то вполне на месте. Он впервые по-настоящему оглядел избу, стены. В доме все было так же как и при матери, все на своих обычных местах. И все же чего-то недоставало. А чего, Николай не мог понять. Он встал, походил по избе, оглядывая стены, занавешенные окна, углы и, наконец, понял: не горела в углу пред иконами лампадка. Он вспомнил, что при матери лампадка горела на Пасху всю ночь, и эта ночь была какой-то праздничной уютно-золотой.
И он решил сделать все так, как было тогда.
Лампадка так и стояла перед иконами. Правда, из прежних больших икон осталась только одна. Другие растащили после смерти матери родственники. Стоял возле иконы застаревший пучок вербы, какая-то фотография с ангелами, огарки свечей и еще маленькие иконки в поржавевших железных рамках. В лампадке оказался остаток масла. Николай подумал, что в Пасху надо бы прибраться тут, как делала мать. Он намочил тряпку под умывальником и не без трепета приблизился к божнице. Стоя на лавке он протер стекло большой иконы и залюбовался ей: на золотом фоне был изображен курчавый муж в длинном голубом одеянии, но босой. Икону эту Николай видел с детства, вырос под ней, но никогда не интересовался, не разглядывал, кто на ней. Не знал и сейчас. Однако, вверху иконы было что-то написано древними буквами. Николай пожалел, что не знает церковного языка, но к удивлению своему прочитал легко:
"Симон - Петр". И напрягся внутренне: "Какой же это Петр? Уж не тот ли, что отрекся от Христа в ту роковую ночь?.." Тут он вспомнил, что в старой рыбацкой деревне, откуда они переселились, престольным праздником был Петров день. А этой иконой благославляли родители отца, когда он женился - так говорила мать. И еще вспомнил, что на Петров день по традиции заказывали в Кривоезерском монастыре молебен, а саму икону поднимали против течения до деревни в лодке. Сажали за весла две пары незамужних молодых девок, икону укрепляли посреди лодки и десять верст гребли вверх по Унже.
"Конечно, это тот Петр, - подумал Николай, - он же был рыбак, как и мы. Кому же еще могли молиться рыбаки?" И тут он со стыдом вспомнил, что упрекал апостола всю дорогу от Нёмды за отречение от Христа. Он ходил по избе и все повторял: "Симон - Петр, Симон - Петр... Почему Симон?" - что-то уж больно знакомо было, не давало покоя. "А я с тебя больше и не возьму. Сегодня Пасха..." - вспомнил он слова Петьки - рыбака под горой. - Ну вот, и этот Петр. Так он же Симонов! Петька Симонов!.. И Симон - Петр... Вот это да-а..." - его будто по лбу стукнули. Он даже сел на лавку. - "Вот это да-а... Нарочно не придумаешь. Ну и ну-у...Опять какие-то чудеса". И он стал перебирать в памяти все, что случилось с ним за эти три дня. Вспомнил мать на березе, охоту на озере, гоголя, который унырнул вместе с выстрелом, пустую сеть, шилохвостей и удар колокола, когда не стрельнуло ружье... Потом - как шел домой, пустыми солнечными полями и настойчиво упрекал Петра за отречение от Христа. И ему стало стыдно: "А он вот не отрекся от меня, не помстил: и рыбы дал и утку да еще от своего имени Симона Петра. А- яй!.."
И Николай опять вспомнил ту темную холодную ночь в Гефсиманском саду и как Петр вынул меч и отсек рабу первосвященника ухо. Вот его истинная горячая вера! Ведь никто больше не решился на такое. Он один. А отрекся уж потом. Слаб человек... Вот и я, крестик стал делать в бане, струсил. А его, если б схватили, то уж, точно, не оставили бы в живых. А ведь надо было кому-то оставаться и на воле, в живых. Нельзя же, чтобы всех взяли разом. Кому-то надлежало выручать Учителя. Да, поколебались... А потому, что еще не было распятия и Воскресения. И не обрели они пока той веры, которой горели потом. Но Христос простил их, простил Он и Петра потом. А я вот не простил, упрекать стал. Но он не обиделся, и все мне дал в нужное время. Видимо, простил меня по примеру Учителя своего. А я все ищу доказательств как Фома неверующий. "Таким, как я, надо дубиной бить по лбу, только тогда поверим..." - вспомнил он свои же слова. - Вот мне и долбануло как кувалдой. И точно три раза. Как просил".
Перед сном он долго и искренне молился. Может быть, впервые за всю свою сознательную жизнь. Нет, не впервые. Он вспомнил, как он молился в отрочестве в охотничьем шалаше, чтобы явился ему Божий знак на воде. Тогда было туманно и тихо. Как-то уж очень благостно, и казалось, что Бог совсем рядом... Но знака не было. А второй раз он от всей души призывал имя Божие, когда работал в порту на кране, еще молодым и придавил контейнером грузчика - "расплющил", как говорили. Сбежался весь порт, летела, выла "скорая", а ему казалось, что это воет его душа, но никто его души не слышал. Вот тогда он и молился на своем кране. Он ушел из ненавистной ему кабины, на которую указывали с земли пальцами и бросали осуждающие взгляды. Ушел в машинное отделение, пал там на колени возле грузовых барабанов с маслянистыми тросами и молился, чтобы грузчик остался жив.
И он выжил. И даже вернулся в порт.
Теперь он молился за всю родню, за всех живых и мертвых. Он вспоминал эти три дня и просил прощения у апостола Петра. Душой он чувствовал, что все завершилось пока, дальнейший путь жизни зависит только от него самого.
Спать он залез на печь. И все думал о происшедшем, поглядывал оттуда на Симона - Петра в теплом золотистом освещении лампады. У босых ног апостола алело Верино яичко. И все было покойно и просто.
Уснул он быстро, будто провалился куда. И всю ночь был как бы в невесомости. И видел сон. Вместе с отцом плыли изумрудными заливными лугами через затопленный остров домой. Было солнечно, нежно-зелено на плоских обсыхающих гривах, а вода уже отстоялась; чистая будто ключевая она стеклянно покоилась в первозеленых берегах и была на удивление теплой. Видел и себя самого в лодке - простодушным наивным подростком, босого, в длинной ниже колен белой как снег рубахе. И почему-то больше всего на свете боялся запачкать эту рубаху. Потому что и сам был чист и прост и до того светел душой, что завидовал, радуясь, самому себе. И летел, надвигался на лодку шилохвость. Наплывал, увеличивался до огромных размеров. Острые сизые крылья его были распахнуты на стороны как ножницы. Они резали воздух, и он голубовато плавился в белых подкрыльях, успокаивающе шелестел нежным сладким пением... Николка так любил этот полет и все вокруг, тоже чистое и простое и как бы невесомое, что хотел навсегда остаться в этой новой жизни и не покидать ее никогда.
Но где-то далеко-далеко, в самой глубине сердца, тонкой иглой-печалью сквозило предчувствие, что это еще не его, не истинная жизнь, а лишь отблеск какой-то иной, невыразимо прекрасной и недосягаемой. Он чувствовал, что жизнь эта, где-то рядом, всей душой стремился к ней, но она тихо таяла и расплывалась. И, когда она ускользала, мучительная тоска обволакивала душу от страха потерять ее навсегда. Поэтому он длил и длил свой светлый невесомый сон с тихой счастливой надеждой.
Конец.